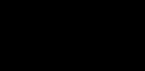Во все времена существовали свои застольные традиции, правила сервировки стола, определенное время для приема пищи. Менялись на протяжении веков и кулинарные пристрастия, те блюда, которые готовили наши предки еще 100-200 лет назад, теперь вышли из обихода и мы можем о них узнать лишь из старинных поваренных книг. Что подавали к столу в крестьянских избах и богатых домах в России 19 века , как менялись традиции в зависимости от иностранного влияния, откуда, наконец, появились те или иные блюда, без которых невозможно представить современную трапезу? еда 19 века — тема сегодняшнего рассказа на страницах женского журнала JustLady.
Было бы неправильно думать, что крестьянская еда 19 века — это только незамысловатые огородные овощи и рыба, а на стол богатых людей подавались сплошь изысканные заморские яства и деликатесы. На самом деле именно в 19 веке еда стала существенно отличаться от той, что подавали еще в веке 18-ом, основной упор делался на блюда национальной русской кухни. Стерлись границы между кухней знати и представителей низшего сословия. Но вместе с тем появились и благополучно прижились некоторые иноземные традиции.
Давайте по порядку.
Если проанализировать кулинарию более раннего периода, то она, конечно, отвечает своему времени и потребностям людей. В местах, где было развито рыболовство основным блюдом была рыба, там, где выращивали скот, ели мясо, в местностях с благодатными почвами собирали овощи и фрукты и даже научились их консервировать.
Постепенно еда стала более разнообразной, люди перенимали опыт своих соседей, делились своим. Причем это было характерно не только для низшего сословия, до некоторого времени особых изысков не видела и знать.
В 16-18 века х кухня крестьян в основном различается на постную (ту, что ели во время постов) и скоромную (для остальных дней), высшие сословия вводят новые традиции, благодаря тому, что в Россию проникают некоторые невиданные ранее продукты. К таким новшествам относится и простой чай с лимоном. Однако еще какое-то время продукты не измельчаются и не смешиваются, даже начинки для пирогов закладывались пластами.
Существует и традиция приготовления тех или иных видов мяса: говядина, например, отваривается и солится, свинина идет на ветчину, а птица жарится. Боярское сословие стремится не только к разнообразию, но и к особой помпезности сервировки, а также к длительным застольям. Дворяне заимствуют европейские традиции в приготовлении блюд, выписывают французских поваров, благодаря чему намечаются существенные различия между кухней простонародной и дворянской.
В 18 веке в Росси появились блюда, заимствованные из французской кухни, такие как известные всем нам котлеты и сосиски. Из яиц стали готовить омлеты, а из фруктов варить компоты.
В 19 веке еда перестала делиться на крестьянскую (традиционную русскую) и кухню знатных особ (с элементами европейской). Однако в обиход прочно вошли супы, завезенные из Франции. На Руси до сих пор знали горячие жидкие блюда под названием «похлебки», супы же отличались не только названием, но и технологией приготовления.
Особое место у русского человек в 19 веке занимала еда , которую было положено есть с похмелья. Это были в основном жидкие солянки и рассольники, в том числе рыбные.
Попытка приучит русскую знать к французским изыскам в виде лягушачьих лапок и прочего потерпела в это период фиаско — даже знать, падкая на новшества, не соглашалась менять сытные русские блины на сомнительные деликатесы.
В середине 19 века возникает новый вид кухни — трактирная. В кабачках и трактирах готовились русские национальные блюда, как простые крестьянские, так и те, что жаловали в богатых домах, имелись в меню и заморские яства. Здесь останавливались закусить как представители самых низших слоев (ямщики, приказчики), так и богатые люди. И хозяева старались угостить гостей от души.
Чуть ранее появилась традиция готовить рыбные закуски, в 19 веке кухня дополнилась рыбными салатами. В крестьянском варианте это были различные овощные блюда с добавлением селедки.
Из рыбы самой дорогой и деликатесной считалась стерлядь, которая шла на заливное, уху, и прочие закуски. В почете был угорь. Рыбу к тому времени уже не только солили и варили, но и жарили, коптили и даже консервировали с добавлением уксуса и пряностей.
Очень простым и доступным продуктом, особенно в южных областях, считалась черная икра. Ее ели не только богатые люди, но простые крестьяне. В 19 веке это была достаточно дешевая еда .
Появился в Росси и знаменитый украинский борщ с пампушками, причем именно в 19 веке ресторанные повара Петербурга внесли в рецептуру некоторые изменения в рецептуру. Борщ стали готовить не только на свиной грудинке и телятине, но и на костных и мясных бульонах. В рецептуру блюда также входили кислые яблоки, фасоль, репа, кабачки.
И в богатых, и в бедных семьях не было недостатка в капусте, помидорах, картошке, моркови, зелени, свекле и луке. Знания о процессах брожения позволяли заготавливать продукты впрок. Очень популярны и доступны были грибы, которые в это время в основном готовили запеченными в сметане.
Но все же главным блюдом на столах была рыба, а уже после нее — мясо и все остальное. Подавали в знатных домах и различные десерты: фрукты, пирожные, а также французские яства с труднопроизносимыми названиями.
Популярной едой в 19 веке был вкуснейший барашек с кашей, который благополучно перекочевал в столичные заведения с помещичьих сельских кухонь. Особенно это блюдо пришлось по душе военным.
Мясо в горшочках готовили на Руси издавна. В 19 веке мода на эти блюда остается актуальной. В это же время появляется и совершенно новое кушанье — грузинский шашлык. Кстати сказать, в первое время им торговали чуть ли не подпольно, и только через несколько лет установилась традиция есть шашлыки и запивать их хорошим вином.
Сейчас многие традиции прошлых веков давно утеряны, мы не можем приготовить пять видов солянок и не имеем представления, что такое няня, саламата и кокурка. Во многих дорогих ресторанах стараются восстановить русские традиции и готовят еду 19 века , применяя старинные рецепты и приготовляя кушанья в настоящей русской печи.
Однако, как мне кажется, современные методы выращивания овощей, заготовки мяса и прочего существенно влияют на вкус и качество блюда, и даже откушав царской ухи в самом пафосном заведении, вряд ли можно с уверенностью говорить, что мы пробовали настоящую еду 19 века .
Александра Панютина
Женский журнал JustLady
Многие изучая историю России или Руси спорят, отстаивая свои интересы о ранее услышанном от кого-то или прочитанном из каких-то источников, что раньше жизнь была хорошая или плохая, или, скажем, что до революции жилось крестьянам очень хорошо, а вот помещики жировали и от того народ взбунтовал... И так далее и тому подобное. И не тому конца. Если невнимать тот факт, что сравнивать можно только сравнимые вещи. А история жизни даже нашей с вами меняется каждое десятилетие и причем кардинально.
Так было и раньше с нашими предками. И об этом свидетельствуют многие источники, например, художественная литература русских классиков. Чтобы рассеять все ваши сомнения о том, что помещики жировали, а народ страдал, предлагаю к ознакомлению главу из последнего произведения великого русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина, которое представляет собой грандиозное историческое полотно целой эпохи. По словам самого автора, его задачей было восстановление «характеристических черт» жизни помещичьей усадьбы эпохи крепостного права.
Итак, М. Е. Салтыков-Щедрин "Пошехонская старина", глава "Помещичья среда". Для тех, кто заинтересуется прочитать этот труд полностью, внизу приведена ссылка на скачивание этой книги.
Александр Новак
Помещичья среда
Помещиков в нашем краю было много, но материальное их положение представлялось не особенно завидным. Кажется, наше семейство считалось самым зажиточным; богаче нас был только владелец села Отрады, о котором я однажды упоминал, но так как он в имении живал лишь наездом, то об нем в помещичьем кругу не было и речи. Затем можно было указать на три четыре средних состояния от пятисот до тысячи душ (в разных губерниях), а за ними следовала мелкота от полутораста душ и ниже, спускаясь до десятков и единиц.
Были местности, где в одном селе скучивалось до пяти шести господских усадеб, и вследствие этого существовала бестолковейшая чересполосица. Но споры между совладельцами возникали редко. Во первых, всякий отлично знал свой клочок, а во вторых, опыт доказывал, что ссоры между такими близкими соседями невыгодны: порождают бесконечные дрязги и мешают общежитию. А так как последнее составляло единственный ресурс, который сколько нибудь смягчал скуку, неразлучную с безвыездным житьем в захолустье, то благоразумное большинство предпочитало смотреть сквозь пальцы на земельную неурядицу, лишь бы не ссориться. Поэтому и вопрос о размежевании чересполосных владений, несмотря на настояния начальства, оставался нетронутым: все знали, что как только приступлено будет к его практическому осуществлению - общей свалки не миновать.
Но иногда случалось, что в подобной плотно замкнувшейся помещичьей мурье появлялся кляузник или просто наглый человек, который затевал судьбища и при содействии сутяг подьячих распространял кругом отраву. Под влиянием этой отравы мурья приходила в движение; всякий начинал отыскивать свое; возникали разбирательства и постепенно втягивали в себя всех соседей.
Спор о клочке в несколько десятков квадратных сажен переходил в личную ссору, а наконец и в открытую вражду. Вражда обострялась, делалась неумолимою. Бывали случаи, что соседи односельцы, все поголовно, не только не посещали друг друга, но избегали встреч на улице и даже в церкви устраивали взаимные скандалы. Разумеется, одолевал тот, кто был посильнее и помогутнее; слабым же и захудалым и судиться было не на что. Последние поневоле смирялись и, кругом обездоленные, являлись просить пощады. Тогда в мурье вновь восстановлялась тишь да гладь да божья благодать.
Помещики, владевшие особняками, конечно, были избавлены от сутолоки, составляющей неизбежную принадлежность слишком близкого соседства, но зато они жили скучнее. В люди ездили редко, охотой занимались только осенью, а хозяйство представляло слишком слабый ресурс, чтобы наполнить жизнь.
Страстные хозяева встречались в виде исключения; большинство довольствовалось заведенными порядками, которые обеспечивали насущный кусок и давали достаточно досуга, чтобы иметь право называться барином или барыней. Не мешает заметить при этом, что помещики, которые хоть сколько нибудь возвышались над материальным уровнем мелкоты, смотрели свысока на своих захудалых собратий и вообще чересчур легко заражались чванством.
Помещичьи усадьбы были крайне невзрачны. Задумавши строиться, ставили продолговатый сруб вроде казарм, разделяли его внутри перегородками на каморки, проконопачивали стены мхом, покрывали тесовой крышей и в этом неприхотливом помещении ютились, как могли. Под влиянием атмосферических изменений сруб рассыхался и темнел, крыша пропускала течь. В окна дуло; сырость проникала беспрепятственно всюду; полы ходили ходуном, потолки покрывались пятнами, и дом, за отсутствием ремонта, врастал в землю и ветшал. На зиму стены окутывали соломой, которую прикрепляли жердями; но это плохо защищало от холода, так что зимой приходилось топить и утром и на ночь. Само собой разумеется, что у помещиков побогаче дома строились обширнее и прочнее, но общий тип построек был одинаков.
Об удобствах жизни, а тем менее о живописной местности не было и речи.
Усадьба ставилась преимущественно в низинке, чтобы от ветра обиды не было.
С боков выстраивали хозяйственные службы, сзади разводили огород, спереди - крохотный палисадник. Ни парков, ни даже фруктовых садов, хоть бы в качестве доходной статьи, не существовало. Редко редко где можно было встретить натуральную рощицу или обсаженный березками прудок. Сейчас за огородом и службами начинались господские поля, на которых с ранней весны до поздней осени безостановочно шла работа. Помещик имел полную возможность из окон дома наблюдать за процессом ее и радоваться или печалиться, смотря по тому, что ожидало впереди, урожай или бескормица. А это было в жизни самое существенное и все прочие интересы отодвигало далеко на задний план.
Несмотря, однако ж, на недостаточные материальные средства, особенной нужды не чувствовалось. Разве уж самые мелкотравчатые не успевали сводить концы с концами и искали подспорья в том, что перекочевывали с детьми от одних соседей к другим, играя незавидную роль буфонов и приживальцев.
Причина такого сравнительного довольства заключалась отчасти в общей дешевизне жизни, но преимущественно в крайней неприхотливости требований.
Ограничивались исключительно своим, некупленным. Денежных издержек требовала только одежда, водка и в редких случаях бакалейные товары. В некоторых помещичьих семьях (даже не из самых бедных) и чай пили только по большим праздникам, а о виноградном вине совсем было не слышно. Настойки, наливки, квас, мед - вот напитки, которые были в ходу, а домашние соленья и маринады фигурировали в качестве закусок. За столом подавали все свое, за исключением говядины, которая вследствие этого употреблялась редко. Домочадцы, не имея понятия о так называемых разносолах, удовлетворялись этим обиходом вполне, да и гости претензий не заявляли. Было бы жирно и всего вдоволь - вот мерило, которым руководилось тогдашнее помещичье гостеприимство.
Сто, двести рублей (ассигнациями) считались в то время большими деньгами. И вот когда они случайно скоплялись в руках, то для семьи устраивалось что нибудь прочное. Покупали сукна, ситцев и проч., и с помощью домашних мастеров и мастериц члены семьи обшивались. Дома продолжали ходить в стареньком; новое берегли для гостей. Завидят, что гости едут - и бегут переодеваться, чтобы гости думали, что гостеприимные хозяева всегда так ходят. Зимой, когда продавался залипший хлеб и разный деревенский продукт, денег в обращении было больше, и их «транжирили»; летом дрожали над каждой копейкой, потому что в руках оставалась только слепая мелочь. «Лето - припасуха, зима - прибируха», - гласила пословица и вполне оправдывала свое содержание на практике. Поэтому зимы ждали с нетерпением, а летом уединялись и пристально следили из окон за процессом созидания предстоящего зимнего раздолья.
Во всяком случае, на судьбу редко роптали. Устраивались, насколько кто мог, и на лишние куски не зарились. Сальные свечи (тоже покупной товар) берегли как зеницу ока, и когда в доме не было гостей, то по зимам долго сумерничали и рано ложились спать. С наступлением вечера помещичья семья скучивалась в комнате потеплее; ставили на стол сальный огарок, присаживались поближе к свету, вели немудреные разговоры, рукодельничали, ужинали и расходились не поздно. Если в семье было много барышень, то веселая их беседа за полночь раздавалась по дому, но ведь разговаривать и без свечей можно.
Тем не менее, в какой мере это относительно безнуждное житие отражалось на крепостной спине - это вопрос особый, который я оставляю открытым.
Образовательный уровень помещичьей среды был еще менее высок, нежели материальный. Только один помещик мог похвалиться университетским образованием, да двое (мой отец и полковник Туслицын) получили довольно сносное домашнее воспитание и имели средние чины. Остальную массу составляли недоросли из дворян и отставные прапоры. В нашей местности исстари так повелось, что выйдет молодой человек из кадетского корпуса, прослужит годик другой и приедет в деревню на хлеба к отцу с матерью. Там сошьет себе архалук, начнет по соседям ездить, девицу присмотрит, женится, а когда умрут старики, то и сам на хозяйство сядет. Нечего греха таить, не честолюбивый, смирный народ был, ни ввысь, ни вширь, ни по сторонам не заглядывался. Рылся около себя, как крот, причины причин не доискивался, ничем, что происходило за деревенской околицей, не интересовался, и ежели жилось тепло да сытно, то был доволен и собой, и своим жребием.
Печатное дело успехом не пользовалось. Из газет (их и всего то на целую Россию было три) получались только «Московские ведомости», да и те не более как в трех или четырех домах. О книгах и речи не было, исключая академического календаря, который выписывался почти везде; сверх того, попадались песенники и другие дешевые произведения рыночной литературы, которые выменивали у разносчиков барышни. Они одни любили от скуки почитать. Журналов не получалось вовсе, но с 1834 года матушка начала выписывать «Библиотеку для чтения», и надо сказать правду, что от просьб прислать почитать книжку отбоя не было. Всего больше нравились: «Оленька, или Вся женская жизнь в нескольких часах» и «Висячий гость», принадлежавшие перу барона Брамбеуса. Последний сразу сделался популярным, и даже его не совсем опрятною «Литературною летописью» зачитывались до упоения. Сверх того, барышни были большие любительницы стихов, и не было дома (с барышнями), в котором не существовало бы объемистого рукописного сборника или альбома, наполнениях произведениями отечественной поэзии, начиная от оды «Бог» и кончая нелепым стихотворением: «На последнем я листочке». Гений Пушкина достиг в то время апогея своей зрелости, и слава его гремела по всей России. Проникла она и в наше захолустье и в особенности в среде барышень нашла себе восторженных поклонниц. Но не мешает прибавить, что слабейшие вещи, вроде «Талисмана», «Черной шали» и проч., нравились больше, нежели произведения зрелые. Из последних наибольшее впечатление производил «Евгений Онегин», по причине легкости стиха, но истинный смысл поэмы едва ли был кому доступен.
Лишенная прочной образовательной подготовки, почти непричастная умственному и литературному движению больших центров, помещичья среда погрязала в предрассудках и в полном неведении природы вещей. Даже к сельскому хозяйству, которое, казалось бы, должно было затрогивать существеннейшие ее интересы, она относилась совершенно рутинно, не выказывая ни малейших попыток в смысле улучшения системы или приемов.
Однажды заведенные порядки служили законом, а представление о бесконечной растяжимости мужицкого труда лежало в основании всех расчетов. Считалось выгодным распахивать как можно больше земли под хлеб, хотя, благодаря отсутствию удобрения, урожаи были скудные и давали не больше зерна на зерно. Все таки это зерно составляло излишек, который можно было продать, а о том, какою ценою доставался тот излишек мужичьему хребту, и думать надобности не было.
К этой общей системе, в качестве подспорья, прибавлялись молебны о ниспослании вёдра или дождя; но так как пути провидения для смертных закрыты, то самые жаркие мольбы не всегда помогали. Сельскохозяйственной литературы в то время почти не существовало, а ежели в «Библиотеке для чтения» и появлялись ежемесячно компиляции Шелихова, то они составлялись поверхностно, по руководству Тэера, совершенно непригодному для нашего захолустья. Под их наитием выискалось две три личности - из молодых да ранние, которые пробовали делать опыты, но из них ничего путного не вышло.
Причина неудач, конечно, прежде всего заключалась в круглом невежестве экспериментаторов, но отчасти и в отсутствии терпения и устойчивости, составляющем характеристическую черту полуобразованности. Представлялось, что результат должен прийти сейчас же немедленно; а так как он не приходил по желанию, то неудача сопровождалась потоком ничего не стоящих ругательств, и охота к производству опытов столь же легко пропадала, как и приходила.
Нечто подобное повторилось впоследствии, при освобождении крестьян, когда чуть не поголовно все помещики возомнили себя сельскими хозяевами и, растративши попусту выкупные ссуды, кончили тем, что стремительно бежали из насиженных отцами гнезд. Как стоит это дело в настоящее время - сказать не могу, но уже из того одного, что землевладение, даже крупное, не сосредоточивается более в одном сословии, а испестрилось всевозможными сторонними примесями, - достаточно ясно, что старинный поместный элемент оказался не столько сильным и приготовленным, чтоб удержать за собой главенство даже в таком существенном для него вопросе, как аграрный.
Вопросы внешней политики были совсем неизвестны. Только в немногих домах, где получались «Московские ведомости», выступали на арену, при гостях, кое какие скудные новости, вроде того, что такая то принцесса родила сына или дочь, а такой то принц, будучи на охоте, упал с лошади и повредил себе ногу. Но так как новости были запоздалые, то обыкновенно при этом прибавляли: «Теперь уж, поди, нога зажила!» - и переходили к другому, столь же запоздалому известию. Несколько дольше останавливались на кровавой путанице, происходившей в то время в Испании между карлистами и христиносами, но, не зная начал ее, тщетно усиливались разгадать ее смысл.
Францию считали очагом безнравственности и были убеждены, что французы питаются лягушками. Англичан называли купцами и чудаками и рассказывали анекдоты, как некоторый англичанин бился об заклад, что будет целый год питаться одним сахаром, и т. д. К немцам относились снисходительнее, прибавляя, однако, в виде поправки: «Что русскому здорово, то немцу смерть». Этими краткими россказнями и характеристиками исчерпывался весь внешний политический горизонт.
О России говорили, что это государство пространное и могущественное, но идея об отечестве, как о чем то кровном, живущем одною жизнью и дышащем одним дыханием с каждым из сынов своих, едва ли была достаточно ясна.
Скорее всего смешивали любовь к отечеству с выполнением распоряжений правительства и даже просто начальства. Никаких «критик» в этом последнем смысле не допускалось, даже на лихоимство не смотрели, как на зло, а видели в нем глухой факт, которым надлежало умеючи пользоваться. Все споры и недоразумения разрешались при посредстве этого фактора, так что если б его не существовало, то еще бог знает, не пришлось ли бы пожалеть об нем. Затем относительно всего остального, не выходящего за пределы приказаний и предписаний, царствовало полное равнодушие. Бытовая сторона жизни, с ее обрядами, преданиями и разлитою во всех ее подробностях поэзией, не только не интересовала, но представлялась низменною, «неблагородною». Старались истреблять признаки этой жизни даже среди крепостной массы, потому что считали их вредными, подрывающими систему безмолвного повиновения, которая одна признавалась пригодною в интересах помещичьего авторитета. В барщинских имениях праздник ничем не отличался от будней, а у «образцовых» помещиков песни настойчиво изгонялись из среды дворовых. Случались, конечно, исключения, но они уже составляли любительское дело, вроде домашних оркестров, певчих и т. п.
Я знаю, мне могут сказать, что бывали исторические моменты, когда идея отечества вспыхивала очень ярко и, проникая в самые глубокие захолустья, заставляла биться сердца. Я отнюдь и не думаю отрицать этого. Как бы ни были мало развиты люди, все же они не деревянные, и общее бедствие способно пробудить в них такие струны, которые при обычном течении дел совсем перестают звучать. Я еще застал людей, у которых в живой памяти были события 1812 года и которые рассказами своими глубоко волновали мое молодое чувство. То была година великого испытания, и только усилие всего русского народа могло принести и принесло спасение. Но не о таких торжественных моментах я здесь говорю, а именно о тех буднях, когда для усиленного чувства нет повода. По моему мнению, и в торжественные годины, и в будни идея отечества одинаково должна быть присуща сынам его, ибо только при ясном ее сознании человек приобретает право назвать себя гражданином.
Двенадцатый год - это народная эпопея, память о которой перейдет в века и не умрет, покуда будет жить русский народ. Но я был личным свидетелем другого исторического момента (войны 1853 - 1856 г.), близко напоминавшего собой двенадцатый год, и могу сказать утвердительно, что в сорокалетний промежуток времени патриотическое чувство, за недостатком питания и жизненной разработки, в значительной мере потускнело. У всех в памяти кремневые ружья с выкрашенными деревянными чурками вместо кремней, картонные подошвы в ратнических сапогах, гнилое сукно, из которого строилась ратническая одежда, гнилые ратнические полушубки и проч. Наконец памятен процесс заместительства ополченских офицеров, а по заключении мира торговля ратническими квитанциями. Мне возразят, конечно, что все эти постыдные дела были совершены отдельными личностями, и ни помещичья среда (которая, впрочем, была главною распорядительницей в устройстве ополчения), ни народ не причастны им. Охотно допускаю, что во всем этом настроении преимущественными виновниками являются отдельные личности, но ведь масса присутствовала при этих деяниях - и не ахнула. Смех раздавался, смех! - и никому не приходило в голову, что смеются мертвецы…
Во всяком случае, при таком смутном представлении об отечестве не могло быть и речи об общественном деле.
К похвале помещиков того времени я должен сказать, что, несмотря на невысокий образовательный уровень, они заботливо относились к воспитанию детей, - преимущественно, впрочем, сыновей, - и делали все, что было в силах, чтобы дать им порядочное образование. Даже самые бедные все усилия напрягали, чтобы достичь благоприятного результата в этом смысле. Недоедали куска, в лишнем платье домочадцам отказывали, хлопотали, кланялись, обивали у сильных мира пороги… Разумеется, все взоры были обращены на казенные заведения и на казенный кошель, и потому кадетские корпуса все еще продолжали стоять на первом плане (туда легче было на казенный счет поступить); но как только мало мальски позволяли средства, так уже мечтался университет, предшествуемый гимназическим курсом. И надо сказать правду: молодежь, пришедшая на смену старым недорослям и прапорам, оказалась несколько иною. К сожалению, помещичьи дочери играли в этих воспитательных заботах крайне второстепенную роль, так что даже и вопроса о сколько нибудь сносном женском образовании не возникало. Женских гимназий не существовало, а институтов было мало, и доступ в них сопрягался с немаловажными затруднениями. Но главное все таки, повторяю, самой потребности в женском образовании не чувствовалось.
Что касается до нравственного смысла помещичьей среды нашей местности в описываемое время, то отношения ее к этому вопросу ближе всего можно назвать страдательными. Атмосфера крепостного права, тяготевшая над нею, была настолько въедчива, что отдельные индивидуумы утопали в ней, утрачивая личные признаки, на основании которых можно было бы произнести над ними правильный суд. Рамки были для всех одинаково обязательные, а в этих общих рамках обязательно же вырисовывались контуры личностей, почти ничем не отличавшихся одна от другой. Разумеется, можно было бы указать на подробности, но они зависели от случайно сложившейся обстановки и притом носили родственные черты, на основании которых можно было легко добраться до общего источника. Впрочем, из всей настоящей хроники довольно явственно выступает неприглядная сторона нравственного состояния тогдашнего культурного общества, и потому я не имею надобности возвращаться к этому предмету. Прибавлю одно: крайне возмутительным фактом являлась гаремная жизнь и вообще неопрятные взгляды на взаимные отношения полов. Язва эта была достаточно таки распространена и нередко служила поводом для трагических развязок.
Остается сказать несколько слов о религиозном настроении. В этом отношении я могу свидетельствовать, что соседи наши были вообще набожны; если же изредка и случалось слышать праздное слово, то оно вырывалось без намерения, именно только ради красного словца, и всех таких празднословов без церемонии называли пустомелями. Сверх того, довольно часто встречались личности, которые, очевидно, не понимали истинного смысла самых простых молитв; но и это следует отнести не к недостатку религиозности, а к умственной неразвитости и низкому образовательному уровню.
Переходя от общей характеристики помещичьей среды, которая была свидетельницей моего детства, к портретной галерее отдельных личностей, уцелевших в моей памяти, я считаю нелишним прибавить, что все сказанное выше написано мною вполне искренно, без всякой предвзятой мысли во что бы то ни стало унизить или подорвать. На склоне лет охота к преувеличениям пропадает и является непреодолимое желание высказать правду, одну только правду. Решившись восстановить картину прошлого, еще столь недалекого, но уже с каждым днем более и более утопающего в пучине забвения, я взялся за перо не с тем, чтобы полемизировать, а с тем, чтобы свидетельствовать истину. Да и нет никакой цели подрывать то, что уже само, в силу общего исторического закона, подорвано.
Бытописателей изображаемого мною времени являлось в нашей литературе довольно много; но я могу утверждать смело, что воспоминания их приводят к тем же выводам, как и мои. Быть может, окраска иная, но факты и существо их одни и те же, а фактов ведь ничем не закрасишь.
Покойный Аксаков своею «Семейной хроникой» несомненно обогатил русскую литературу драгоценным вкладом. Но, несмотря на слегка идиллический оттенок, который разлит в этом произведении, только близорукие могут увидеть в нем апологию прошлого. Одного Куролесова вполне достаточно, чтобы снять пелену с самых предубежденных глаз. Но поскоблите немного и самого старика Багрова, и вы убедитесь, что это совсем не такой самостоятельный человек, каким он кажется с первого взгляда. Напротив, на всех его намерениях и поступках лежит покров фаталистической зависимости, и весь он с головы до пяток не более, как игралище, беспрекословно подчиняющееся указаниям крепостных порядков.
Во всяком случае, я позволю себе думать, что в ряду прочих материалов, которыми воспользуются будущие историки русской общественности, моя хроника не окажется лишнею.
Скачать книгу Салтыкова-Щедрина "Пошехонская старина " можно на сайте Правильные КНИГИ.
Новости Партнеров
Было бы неправильно думать, что крестьянская еда 19 века - это только незамысловатые огородные овощи и рыба, а на стол богатых людей подавались сплошь изысканные заморские яства и деликатесы. На самом деле именно в 19 веке еда стала существенно отличаться от той, что подавали еще в веке 18-ом, основной упор делался на национальной русской кухни. Стерлись границы между кухней знати и представителей низшего сословия. Но вместе с тем появились и благополучно прижились некоторые иноземные традиции.
Давайте по порядку.
Если проанализировать кулинарию более раннего периода, то она, конечно, отвечает своему времени и потребностям людей. В местах, где было развито рыболовство основным блюдом была рыба, там, где выращивали скот, ели мясо, в местностях с благодатными почвами собирали овощи и фрукты и даже научились их консервировать.
Постепенно еда стала более разнообразной, люди перенимали опыт своих соседей, делились своим. Причем это было характерно не только для низшего сословия, до некоторого времени особых изысков не видела и знать.
В 16–18 веках кухня крестьян в основном различается на постную (ту, что ели во время постов) и скоромную (для остальных дней), высшие сословия вводят новые традиции, благодаря тому, что в Россию проникают некоторые невиданные ранее . К таким новшествам относится и простой чай с лимоном. Однако еще какое-то время не измельчаются и не смешиваются, даже начинки для пирогов закладывались пластами.
Существует и традиция приготовления тех или иных видов мяса: говядина, например, отваривается и солится, свинина идет на ветчину, а птица жарится. Боярское сословие стремится не только к разнообразию, но и к особой помпезности сервировки, а также к длительным застольям. Дворяне заимствуют европейские традиции в приготовлении блюд, выписывают французских поваров, благодаря чему намечаются существенные различия между кухней простонародной и дворянской.
В 18 веке в Росси появились блюда, заимствованные из французской кухни, такие как известные всем нам котлеты и сосиски. Из яиц стали готовить омлеты, а из фруктов варить компоты.
В 19 веке еда перестала делиться на крестьянскую (традиционную русскую) и кухню знатных особ (с элементами европейской). Однако в обиход прочно вошли супы, завезенные из Франции. На Руси до сих пор знали горячие жидкие блюда под названием «похлебки», супы же отличались не только названием, но и технологией приготовления.
Особое место у русского человек в 19 веке занимала еда , которую было положено есть с похмелья. Это были в основном жидкие солянки и рассольники, в том числе рыбные.
Попытка приучит русскую знать к французским изыскам в виде лягушачьих лапок и прочего потерпела в это период фиаско - даже знать, падкая на новшества, не соглашалась менять сытные русские блины на сомнительные деликатесы.
В середине 19 века возникает новый вид кухни - трактирная. В кабачках и трактирах готовились русские национальные блюда, как простые крестьянские, так и те, что жаловали в богатых домах, имелись в меню и заморские яства. Здесь останавливались закусить как представители самых низших слоев (ямщики, приказчики), так и богатые люди. И хозяева старались угостить гостей от души.
Чуть ранее появилась традиция готовить рыбные закуски, в 19 веке кухня дополнилась рыбными салатами. В крестьянском варианте это были различные овощные блюда с добавлением селедки.
Из рыбы самой дорогой и деликатесной считалась стерлядь, которая шла на заливное, уху, и прочие закуски. В почете был угорь. Рыбу к тому времени уже не только солили и варили, но и жарили, коптили и даже консервировали с добавлением уксуса и пряностей.
Очень простым и доступным продуктом, особенно в южных областях, считалась черная икра. Ее ели не только богатые люди, но простые крестьяне. В 19 веке это была достаточно дешевая еда .
Появился в Росси и знаменитый украинский борщ с пампушками, причем именно в 19 веке ресторанные повара Петербурга внесли в рецептуру некоторые изменения в рецептуру. Борщ стали готовить не только на свиной грудинке и телятине, но и на костных и мясных бульонах. В рецептуру блюда также входили кислые яблоки, фасоль, репа, кабачки.
И в богатых, и в бедных семьях не было недостатка в капусте, помидорах, картошке, моркови, зелени, свекле и луке. Знания о процессах брожения позволяли заготавливать продукты впрок. Очень популярны и доступны были грибы, которые в это время в основном готовили запеченными в сметане.
Но все же главным блюдом на столах была рыба, а уже после нее - мясо и все остальное. Подавали в знатных домах и различные десерты: фрукты, пирожные, а также французские яства с труднопроизносимыми названиями.
Популярной едой в 19 веке был вкуснейший барашек с кашей, который благополучно перекочевал в столичные заведения с помещичьих сельских кухонь. Особенно это блюдо пришлось по душе военным.
Мясо в горшочках готовили на Руси издавна. В 19 веке на эти блюда остается актуальной. В это же время появляется и совершенно новое кушанье - грузинский шашлык. Кстати сказать, в первое время им торговали чуть ли не подпольно, и только через несколько лет установилась традиция есть шашлыки и запивать их хорошим вином.
Сейчас многие традиции прошлых веков давно утеряны, мы не можем приготовить пять видов солянок и не имеем представления, что такое няня, саламата и кокурка. Во многих дорогих ресторанах стараются русские традиции и готовят еду 19 века , применяя старинные рецепты и приготовляя кушанья в настоящей русской печи.
Однако, как мне кажется, современные выращивания овощей, заготовки мяса и прочего существенно влияют на вкус и качество блюда, и даже откушав царской ухи в самом пафосном заведении, вряд ли можно с уверенностью говорить, что мы пробовали настоящую еду 19 века .
Александра Панютина
Женский журнал JustLady
Во все времена существовали свои застольные традиции, правила сервировки стола, определенное время для приема пищи. Менялись на протяжении веков и кулинарные пристрастия, те блюда, которые готовили наши предки еще 100-200 лет назад, теперь вышли из обихода и мы можем о них узнать лишь из старинных поваренных книг. Что подавали к столу в крестьянских избах и богатых домах в России 19 века, как менялись традиции в зависимости от иностранного влияния, откуда, наконец, появились те или иные блюда, без которых невозможно представить современную трапезу? Еда 19 века — тема сегодняшнего рассказа на страницах женского журнала
Было бы неправильно думать, что крестьянская еда 19 века — это только незамысловатые огородные овощи и рыба, а на стол богатых людей подавались сплошь изысканные заморские яства и деликатесы. На самом деле именно в 19 веке еда стала существенно отличаться от той, что подавали еще в веке 18-ом, основной упор делался на блюда национальной русской кухни. Стерлись границы между кухней знати и представителей низшего сословия. Но вместе с тем появились и благополучно прижились некоторые иноземные традиции.
Давайте по порядку.
Если проанализировать кулинарию более раннего периода, то она, конечно, отвечает своему времени и потребностям людей. В местах, где было развито рыболовство основным блюдом была рыба, там, где выращивали скот, ели мясо, в местностях с благодатными почвами собирали овощи и фрукты и даже научились их консервировать.
Постепенно еда стала более разнообразной, люди перенимали опыт своих соседей, делились своим. Причем это было характерно не только для низшего сословия, до некоторого времени особых изысков не видела и знать.
В 16-18 веках кухня крестьян в основном различается на постную (ту, что ели во время постов) и скоромную (для остальных дней), высшие сословия вводят новые традиции, благодаря тому, что в Россию проникают некоторые невиданные ранее продукты . К таким новшествам относится и простой чай с лимоном. Однако еще какое-то время продукты не измельчаются и не смешиваются, даже начинки для пирогов закладывались пластами.
Существует и традиция приготовления тех или иных видов мяса: говядина, например, отваривается и солится, свинина идет на ветчину, а птица жарится. Боярское сословие стремится не только к разнообразию, но и к особой помпезности сервировки, а также к длительным застольям. Дворяне заимствуют европейские традиции в приготовлении блюд, выписывают французских поваров, благодаря чему намечаются существенные различия между кухней простонародной и дворянской.
В 18 веке в Росси появились блюда, заимствованные из французской кухни, такие как известные всем нам котлеты и сосиски. Из яиц стали готовить омлеты, а из фруктов варить компоты.
В 19 веке еда перестала делиться на крестьянскую (традиционную русскую) и кухню знатных особ (с элементами европейской). Однако в обиход прочно вошли супы, завезенные из Франции. На Руси до сих пор знали горячие жидкие блюда под названием «похлебки», супы же отличались не только названием, но и технологией приготовления.
Особое место у русского человек в 19 веке занимала еда , которую было положено есть с похмелья. Это были в основном жидкие солянки и рассольники, в том числе рыбные.
Попытка приучит русскую знать к французским изыскам в виде лягушачьих лапок и прочего потерпела в это период фиаско — даже знать, падкая на новшества, не соглашалась менять сытные русские блины на сомнительные деликатесы.
В середине 19 века возникает новый вид кухни — трактирная. В кабачках и трактирах готовились русские национальные блюда, как простые крестьянские, так и те, что жаловали в богатых домах, имелись в меню и заморские яства. Здесь останавливались закусить как представители самых низших слоев (ямщики, приказчики), так и богатые люди. И хозяева старались угостить гостей от души.
Чуть ранее появилась традиция готовить рыбные закуски, в 19 веке кухня дополнилась рыбными салатами. В крестьянском варианте это были различные овощные блюда с добавлением селедки.
Из рыбы самой дорогой и деликатесной считалась стерлядь, которая шла на заливное, уху, и прочие закуски. В почете был угорь. Рыбу к тому времени уже не только солили и варили, но и жарили, коптили и даже консервировали с добавлением уксуса и пряностей.
Очень простым и доступным продуктом, особенно в южных областях, считалась черная икра. Ее ели не только богатые люди, но простые крестьяне. В 19 веке это была достаточно дешевая еда .
Появился в Росси и знаменитый украинский борщ с пампушками, причем именно в 19 веке ресторанные повара Петербурга внесли в рецептуру некоторые изменения в рецептуру. Борщ стали готовить не только на свиной грудинке и телятине, но и на костных и мясных бульонах. В рецептуру блюда также входили кислые яблоки, фасоль, репа, кабачки.
И в богатых, и в бедных семьях не было недостатка в капусте, помидорах, картошке, моркови, зелени, свекле и луке. Знания о процессах брожения позволяли заготавливать продукты впрок. Очень популярны и доступны были грибы, которые в это время в основном готовили запеченными в сметане.
Но все же главным блюдом на столах была рыба, а уже после нее — мясо и все остальное. Подавали в знатных домах и различные десерты: фрукты, пирожные, а также французские яства с труднопроизносимыми названиями.
Популярной едой в 19 веке был вкуснейший барашек с кашей, который благополучно перекочевал в столичные заведения с помещичьих сельских кухонь. Особенно это блюдо пришлось по душе военным.
Мясо в горшочках готовили на Руси издавна. В 19 веке мода на эти блюда остается актуальной. В это же время появляется и совершенно новое кушанье — грузинский шашлык. Кстати сказать, в первое время им торговали чуть ли не подпольно, и только через несколько лет установилась традиция есть шашлыки и запивать их хорошим вином.
Сейчас многие традиции прошлых веков давно утеряны, мы не можем приготовить пять видов солянок и не имеем представления, что такое няня, саламата и кокурка. Во многих дорогих ресторанах стараются восстановить русские традиции и готовят еду 19 века , применяя старинные рецепты и приготовляя кушанья в настоящей русской печи.
Однако, как мне кажется, современные методы выращивания овощей, заготовки мяса и прочего существенно влияют на вкус и качество блюда, и даже откушав царской ухи в самом пафосном заведении, вряд ли можно с уверенностью говорить, что мы пробовали настоящую еду 19 века .
Историко-статистические описания уездов и губерний России, многочисленные публикации этнографических заметок в губернских ведомостях и записки современников 1810−1890-х годов дают нам возможность познакомиться с различными сторонами быта наших предков. В частности, с тем, как они питались…
Те из горожан, что имели родственников в деревне, замечали, как много, и, в общем-то, невкусно готовят крестьяне. И это - не от бесталанности деревенских стряпух, а от искреннего неприятия ими иных резонов, нежели обеспечение тяжелого крестьянского труда простой и несложной в изготовлении пищей.
Складывался такой подход, наверное, в незапамятные времена. И обосновывался суровой реальностью. Во-первых, крестьянин всегда был ограничен в выборе продуктов и способах кулинарной обработки их. Во-вторых, главной целью хозяйки было - накормить семью, работников простой по набору продуктов, простой в обработке и очень сытной пищей.
Что обеспечивало сытность - «нажористость», как это называли порой? Конечно, картофель. Картофель вареный, картофель жареный, картофельная похлебка - с «забелой» (добавлением молока) в скоромный день, с постным маслом - в день постный…
Другой главный овощ, столп крестьянской кухни - капуста. Щи из серой капусты - с такой же приправой, как и похлебка. И все это - под черный хлеб. Таково было ежедневное будничное «меню» обеда и ужина для крестьянина центра России.
Завтрак же и полдник составляли ржаная ватрушка с творогом, либо ржаной пирог с картофелем или репой. А чаще - если хозяйке было не до изысков - просто ломоть черного хлеба с вареной картошкой. И, конечно же, чай.
Чай - как молитва, дважды в день крестьянин пил чай - «душу отводил». Лишь в дни скоромные некоторые из крестьян чаю изменяли - варили жженый цикорий, сдабривали его молоком. Либо молоко добавляли в тот же чай - «для колера».
В посты рацион менялся. В пищу шли белая квашеная капуста, сдобренная луком и квасом, редька с маслом, «мура» или «тюря» - смесь из хлебных сухарей, искрошенной картошки, лука и кваса, с добавлением хрена, растительного масла и соли.
С удовольствием ели нечто похожее на нынешние незамысловатые винегреты - рубленую вареную свеклу с квасом и огурцами. Шла эта нехитрая радость под «мыкотину» - черный хлеб, только испеченный из просеянной через сито муки и не столь кислый, как обычная «чернушка».
В воскресенья и «небольшие» праздники питались почти так же, как и в будни. Лишь иногда готовили «творожник». Для этого блюда творог, растертый со сметаной с прибавлением пары яиц и молока, в глиняной плошке выдерживали в русской печи.
Не обходилось дело без лакомств. И ими были не пряники, печенье, конфеты - весьма затратные для крестьянского кошелька, не сушеные «дули» - груши, которые тоже надо было где-то покупать, не варенье, требовавшее в качестве консерванта патоки или дорогущего сахара. Нет, лакомились - пареной репой! Любили ее дети, а в пост зимой - и взрослые, особенно уважали морс из этого корнеплода.
Не столь уж древней оказывается традиция народного «кашеедства». Каша, по сути, являлась пищевым концентратом. И употреблялась только в «страду», каковой признавался сенокос.
Мясо русские крестьяне - подневольные вегетарианцы - ели в большие праздники - на Рождество, Крещение, Пасху, Троицу, Рождество и Успение Богородицы, память апостолов Петра и Павла. Впрочем, как и белое «печево» - пироги и ситные из белой пшеничной муки.
Особый стол был и в иных «особых» случаях. «До отвалу» бывало и мяса, и «печева» из белой муки, и прочих яств, в том числе и закупленных в городе или в сельской лавке, - во время «помочей», на торжествах по случаю именин, крестин, в престольные праздники.
Тогда же и вина, и чаю пили тоже вдоволь. Если учесть, что престолов в сельских храмах (да и не в сельских тоже) бывает, кроме главного, еще несколько, можно представить себе, сколько поводов было для обжорства и гулежа.
Праздники эти длились нередко от 2−3 (по весне) до 7−10 дней (осенью). Если это был престольный либо семейный праздник, в каждый дом съезжалось множество гостей - родные или просто хорошо знакомые с хозяевами люди, да не поодиночке, а семьями, с женами и детьми (и взрослыми, и малыми - кроме девиц!), в праздничных одеждах. Приезжали на лучших лошадях, в лучших экипажах.
Описывавшие эти праздники (а ими чаще всего были либо сельские священники, либо земские деятели, либо местные учителя) особо отмечают, насколько дорого такие пиры обходятся - «что истрачивается в эти праздники, хватило бы с остатком на уплату за целый год оброка и всех податей и повинностей - да и крестьянин не принужден бы был целый год питаться кое-чем…».
Это были как раз те праздники, с отголосками которых мы и сейчас иной раз встречаемся в быту - с чудовищным обилием еды и спиртного, с изрядными затратами на мероприятие. Среди прочего - и это досталось нам в наследство от предков.